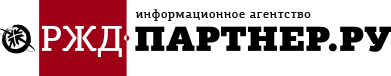Итак, владелец вагона, являющийся оператором подвижного состава, вправе взыскать штраф, предусмотренный ч. 6 ст. 62 Устава железнодорожного транспорта, за задержку принадлежащего ему вагона под погрузкой или выгрузкой.
Оператор, будучи предпринимателем и профессиональным участником рынка, может и должен сам заботиться об эффективности работы своего подвижного состава.
Действующее правовое регулирование для этого предоставляет массу механизмов, самым простым из которых является договорная неустойка (ст. 330 ГК РФ).
В постановлении президиума ВАС РФ от 13.01.2011 г. № 11680/10 по делу № А41-13284/09 разъяснено, что правила ст. 333 ГК РФ предусматривают право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства.
И здесь полезно иметь в виду практику взимания штрафов, которую приводит РЖД-Партнер в исследовании «Ставки и грузовые вагоны».
Двоякое толкование ответственности
При судебных разбирательствах сложности вызывает двоякое толкование ответственности перевозчика, оператора и грузовладельца, что вытекает из Устава железнодорожного транспорта РФ.
В частности, в ст. 62 и 99 предусмотрена ответственность грузоотправителя за задержку вагонов (контейнеров) под погрузкой/выгрузкой. При этом не уточняется, кто именно и в какой мере отвечает за обеспечение подвижным составом.
Нормы фактически перенесены из эпохи МПС, когда услуга монопольно предоставлялась перевозчиком. С точки зрения закона оператор выглядит как перевозчик, но таковым не является.
Отсюда, кстати, перед оператором встает дилемма при выстраивании своей политики: или отказывать клиенту из-за отсутствия свободного подвижного состава, или держать избыточный парк. Ориентация – на второй вариант, поскольку именно на операторе лежит забота о наличии свободного подвижного состава. Но перевозчик придерживается другой стратегии при предоставлении сервиса.
Возникает вопрос о том, как разделить ответственность между перевозчиком и оператором. На него впервые арбитражная практика дала ответы в 2012 году. В постановлении № 15028/11 от 20.03.2012 президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) отметил, что действие ст. 62 Устава железнодорожного транспорта РФ распространяется не только на перевозчика, но и на иного владельца вагона, являющегося оператором подвижного состава.
В последующем такой же позиции стал придерживаться Верховный суд (ВС), сначала в отказных определениях экономической коллегии (определения № 307-ЭС17-3303 и 307-ЭС16-10663), после чего выпустив абстрактные разъяснения (п. 14 Обзора судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции, утвержден Президиумом ВС РФ 20.12.2017).
Оба суда прямо не выразили позицию о природе возникающей между оператором подвижного состава и грузополучателем ответственности по поводу использования подвижного состава. Тем не менее ВАС дал понять, что склонялся к внедоговорному характеру, а ВС – наоборот: все нюансы должны быть прописаны в договоре между участниками перевозки (это было взято из фабулы, когда экспедитор обращался к клиенту с иском именно исходя из договора транспортной экспедиции).
При решении споров нижестоящие суды могут выносить решения исходя из двух указанных позиций. Соответственно, и природа штрафа может быть истолкована двояко.
В первом случае штраф рассматривается как обязательный взнос (сбор) с грузовладельца в пользу оператора, а во втором – как плата (компенсация) за простой вагона на путях необщего пользования (в ожидании выполнения операций) или на промежуточной станции (скажем, из-за задержки с переоформлением документов клиентов).
Однако Арбитражный суд г. Москвы активно использует правило применения ст. 333. ВАС РФ всегда поддерживает подобные прецеденты. В 2024 году аналогично стал принимать решения ВС РФ (в частности, доводом стали санкции против РФ). Это указывает, что в последнее время преобладает все-таки довод о договорной природе штрафов за простой вагонов.
Такой подход снижает роль ОАО «РЖД» как публичного перевозчика и ухудшает шансы операторов отстоять свои интересы в суде. Вместе с тем грузовладельцы в такой ситуации оказываются в более выигрышном положении. Они могут эффективнее применять в свою пользу ст. 333 ГК РФ. И в данном случае арбитраж принимает во внимание ставки штрафов, которые позволяют определить их фактический уровень.
Как оператор становится «стрелочником»
В такой ситуации операторам приходится в последние годы больше внимания уделять совершенствованию договорной деятельности. Одновременно, по оценкам специалистов, наблюдается увеличение претензий со стороны операторов к грузовладельцам. Тренд отмечен с 2018 года.
В 2019 году арбитражными судами было рассмотрено порядка 860 дел по искам операторов подвижного состава к клиентам о взыскании договорных неустоек за нарушение срока возврата вагонов. А сейчас таких прецедентов – свыше 5 тыс. в год.
В ряде случаев иск может быть переадресован клиентом к перевозчику за просрочку доставки груза.
В 2024 году были прецеденты, когда штрафы операторы взыскивали с грузоотправителей. А те – обращались за претензией к перевозчику.
В 2025 году ожидается увеличение количества обращений участников рынка в различные инстанции с претензиями к перевозчику. Они поступают в ФАС, прокуратуру и арбитраж.
Наиболее распространенная ситуация, когда перевозчик оставляет порожний ПС после выгрузки на путях необщего пользования без оформления документов. Оператор в таком случае сам ждет решения от перевозчика: у него – логконтроль, ему не дают отправить порожний вагон – «ищите попутный груз на обратный путь», поскольку ПНД предписывают сначала везти грузы, а потом – порожние вагоны.
При этом пути необщего пользования забиты. Подать вагоны с грузом уже некуда. Перевозчик выпускает конвенцию: больше сюда вагоны не отправлять по причине неприема грузовладельцем. При обращении к перевозчику грузовладелец получает ответ: берите сначала под погрузку порожние вагоны, которые у вас стоят – договаривайтесь с их владельцем.
«Мы вынуждены это делать, несмотря на договоры с другими операторами. Но не всегда это возможно. Например, с полигона МЖД не хотят отправлять цистерны на некоторые станции назначения – если там не будет работы, то оттуда придется порожним цистернам круги описывать. Перевозчик этого не позволит, и цистерна в пути застрянет как «лишний» подвижной состав в шахматках ЦД. Есть операторы, которые согласны ехать в дальний регион. Но их вагоны не пропускает перевозчик», – поясняют клиенты. Это отправители нефтепродуктов, черных металлов, цемента, лесоматериалов, грузов в крытых вагонах и контейнерах.
Проблема в том, что в законодательстве имеется пробел, который приходится заполнять в договорной работе. Для снижения негативного влияния избыточного парка грузовых вагонов на перевозочный процесс разработан типовой договор о взаимодействии между владельцем вагонов и ОАО «РЖД» в качестве владельца инфраструктуры общего пользования. В настоящее время договоры заключили 5 крупнейших операторских компаний: АО «ФГК», АО «Уголь-Транс», АО «Апатит», ООО «Логопер», ООО «Модум-Транс».
По сути, это договоры о нормировании парка.
Что хочет перевозчик
Вот что по этому поводу разъяснили в пресс-службе ОАО «РЖД»:
«Технология работы в рамках договора позволяет существенно оптимизировать нерациональные перемещения подвижного состава, при этом не ущемляет интересов других операторов. Все участники рынка были проинформированы о возможности заключения такого договора. Нерациональное планирование работы парка со стороны собственников подвижного состава привело к переполнению железнодорожных путей общего и необщего пользования порожними вагонами. Для недопущения сбоев в перевозочном процессе, в том числе ограничений для движения пассажирских поездов ОАО «РЖД» в соответствии с ч. 4 статьи 29 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» вводились конвенционные ограничения на перевозку порожних вагонов. Эти конвенционные ограничения распространяются на всех операторов подвижного состава».
Иными словами, перевозчик указал, что делает различия между теми, кто заключил договор, и теми, кто этого не сделал.
«РЖД неоднократно в течение 2023–2024 гг. предлагали внести изменения в правила перемещения порожних вагонов, невостребованных под погрузку. В частности, расширить перечень станций, сделав возможным такое перемещение не только с припортовых, но и со станций, примыкающих к предприятиям непрерывного производства, в том числе металлургическим и нефтеперерабатывающим заводам и т. д. Это позволит металлургическим предприятиям совместно с перевозчиком оперативно регулировать потребность в порожних вагонах и при необходимости освобождать пути предприятий от невостребованного парка и избегать затаривания», – уточнили в ответе РЖД-Партнеру в пресс-службе ОАО «РЖД».
Не надо придумывать дополнительную работу
Проблема в том, что соглашения с операторами – двусторонние, а не трехсторонние (не включают владельцев путей необщего пользования).
В результате при простое порожнего подвижного состава перевозчик сообщит, что порожний вагон не вывезти с путей необщего пользования из-за занятости инфраструктуры. И выдача конвенций и логконтролей в таком случае не комментируется. Причем в последнее время арбитраж Москвы перестал требовать от перевозчика разъяснений, где именно и по какой причине происходят технологические ограничения на сети.
При этом грузовладелец, чтобы взыскать убытки, должен доказать, что принял все меры для вывода вагона с путей необщего пользования после выгрузки. Оператор в такой ситуации выглядит крайним: он должен доказать, что не верблюд, что он и делает, ссылаясь на перевозчика, ограничивающего перемещения порожних вагонов.
С юридической точки зрения, удерживание порожних вагонов (в том числе без оформления документов) на путях необщего пользования следует расценивать как «придумывание дополнительной работы», которая не требуется клиенту при выполнении договора перевозки, в международном морском праве можно найти прецеденты по возмещению в таком случае убытков, понесенных клиентом из-за этого. Иными словами, если перевозчик куда-то доставил вагон, он должен отвечать за последствия, вытекающие из результата выполнения данной операции. Проблема в том, что в ГК РФ положений на эту тему нет, но есть косвенные указания о недопустимости создания подобной ситуации, что можно использовать при арбитражных разбирательствах.
Другой аспект вопроса: сложившаяся ситуация позволяет говорить о разрыве целостности услуги железнодорожной перевозки из-за образования трехуровневой системы логконтролей (ГУ-12, СКПП, шахматки с ограничениями на перемещения порожнего подвижного состава по месту их дислокации). Получается так, что к схеме перевозки, предлагаемой клиентам, скоро придется прикладывать меры претензионного воздействия на перевозчика. И недопустимость такого разрыва из-за излишне усложненной технологии перевозок должна быть зафиксирована в российском законодательстве.
Остается добавить, что от данного нюанса не избавлены сегодня даже спецперевозки, которые по ПНД должны осуществляться в первую очередь. Появились судебные прецеденты и на эту тему. Один из таких случаев зафиксирован ВС РФ: 23 июля 2024 года он вынес определение (№ 308-ЭС24-11192) по прецеденту от 06.12.2023 г., установив правомерность взыскания с ОАО «РЖД» 702,2 тыс. руб. пеней за просрочку доставки груза: «Оценив представленные доказательства, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для освобождения дороги (перевозчика) от ответственности за просрочку в доставке грузов (неустойки, исчисляемой в процентах от платы за перевозку грузов), установив при этом основания для применения положений ст. 333 ГК РФ».


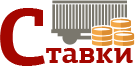

 III КВАРТАЛ 2022Г. - 55 баллов
III КВАРТАЛ 2022Г. - 55 баллов